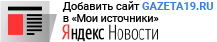Николая Устиновича Журавлёва, бывшего корреспондента журнала «Советская милиция», недавно не стало… На Великой Отечественной войне у него был повреждён позвоночник, получил он ранения в ногу и голову.
Незадолго до его смерти мне довелось побеседовать о том, как он попал на фронт, как пережил первый бой — и сразу на Курской дуге.
Он рассказывал неторопливо, стараясь полнее восстановить события в своей памяти.
— Старенькая изба, в которой родились я, отец и дед отца, речка Расошка, березняки, поляны с жарками, горы — вот всё, что я называю словом Родина, — говорил он. — Мы едем на фронт. Я сижу, прислонившись к стойке грузового вагона, рядом, кто на чём, сидят мои товарищи — солдаты. Вижу, как за открытой дверью проплывают станционные постройки с маленькими базарчиками и женщинами в платках, взглядом провожающих нас…
Чем ближе подъезжали к фронту, тем чаще стали попадаться сгоревшие, опрокинутые вагоны, машины. Однажды ранним утром, на третьи сутки пути, в небе раздался рёв моторов и затем грохот взрывов. Меня сорвало с нар, опрокинуло вместе с вагоном. Как оказался метрах в двухстах от железной дороги — не помню. Я смотрел, оглушённый, в сторону огня, в котором заживо сгорали люди, вагоны. Когда немецкие самолёты скрылись, недалеко от железной дороги, на поляне, мы впервые хоронили товарищей.
Курск проходили ночью. Город горел, в нём не было видно ни одного целого здания. Мы, новое пополнение, были подавлены всем пережитым и увиденным. Днями отсиживались в оврагах, а ночами двигались к передовой. Извилистые траншеи тянулись влево и вправо…
Я не собираюсь рассказывать тебе про всю Курскую битву. Расскажу лишь о первом бое. Это случилось в начале июля 1943 года.
Вспоминаю Васю Алексеева… Небольшого роста. Смуглый. Не беда, что малого роста, зато в бою был первый. Тяжёлым был ночной бой. Я силился открыть глаза и не мог. Но спать нельзя, и я не спал. Утро выдалось ясным. На ромашках, что цвели по ту сторону бруствера, сверкали капельки росы. А ещё дальше, на нейтральном поле, лежали мои товарищи по взводу. И не дотянуться до них, не вытащить. Старшина принесёт на всех завтрак, а их уже нет. Неужели, думал тогда, и я буду лежать, как они?
… Тишину разрывает взрыв. Снаряды и мины рвутся позади. Нас накрывает едкий дым. Хочется вжаться, влезть глубже в землю, слиться с ней, стать невидимым. Пахнет гарью. Дым заполняет окоп. Першит в горле. В рот и нос при взрыве попадает земля. Неужели конец? Неужели я — следующий?
Мы, мальчишки, солдаты 1925 года рождения, сидим на дне окопа и не знаем, что делать дальше. Я сбрасываю с себя шинель, она просечена в нескольких местах осколками. Высовываюсь из-за бруствера. Впереди поле в чёрных ямах. Они дымятся. В пелене темнеют два немецких танка, подбитых вчера ребятами из нашего отделения. Один из танков, с разорванной гусеницей, весь обгоревший, уткнулся пушкой в бруствер, почти лежит на левом боку. Его подорвал Валерий Конопатин противотанковой гранатой, но и сам остался лежать на поле, простреленный пулемётной очередью. Второй танк был подорван Белоусовым (имени не помню), но оба, кажется, были из далёкого сибирского села Троицкого. А сверху всё сыплется и сыплется на нас серый пепел…
Осматриваюсь. Пулемёт Дегтярёва в вырытом углублении цел, но присыпан землей. Мой второй номер, Вася Алексеев, протирает затвор, я — диски. Несколько гранат и бутылок с зажигательной смесью стоят рядом. Это всё, что осталось у нас с Васей на двоих, не считая ещё двух коробок с патронами. Внимательно наблюдаю за Васей. Весь этот день с утра он неразговорчив. Рядом с пулемётом на бруствере растут белые ромашки. Он срывает их и по инерции отрывает лепестки. О чём он думает? Предчувствует ли, что это его последние часы, минуты жизни?..
Коля Попов чуть поодаль у второго изгиба траншеи. Ещё дальше — Вася Семашко. Слева — ребята из соседнего, третьего взвода нашей пятой роты. Вчера у них убило командира взвода лейтенанта Минина. Старший лейтенант Семёнов, наш командир роты, пробираясь к нам, говорит, сплёвывая изо рта песок:
— Держись, ребятки, атака будет! Патроны берегите! Без команды не стрелять!
…Взрывом снаряда сорвало несколько ромашек и бросило в выемку, где стоял пулемёт. Вася взял одну из них, повертел в руках и осторожно положил, как невесту, рядом с гранатами.
Фа-шис-ты… Они бегут полем. Уже бегут! Ещё не слышно стрельбы, криков, команд, а бой уже начался. Во рту у меня, чувствую, пересохло…
— Приготовиться! — команда звучит так неожиданно, что я вздрагиваю.
Вот он, Вася, второй номер. Он будто слился со своим автоматом.
— Вася, держишься?
— Держусь…
— Страшно?..
— Нет. Теперь уже нет.
Цепи фрицев приближаются. Можно рассмотреть уже их лица. Рукава закатаны выше локтей. На животах автоматы. Но они не стреляют. Идут молча. Кругом стало вдруг так тихо, что слышно, как под ухом стрекочут кузнечики. Я перевожу мушку прицела с одного немца на другого. Интересно, видят ли фашисты нас? Наверно, видят.
Прямо на наш окоп бегут сразу несколько фрицев. И когда мне было уже совсем невмоготу сдерживать себя, раздалась команда: «Огонь!» Падают, подсечённые пулями, один на другого поганые фрицы, сбиваются в кучу, мечутся, кричат от наших пуль…
— В атаку! У-р-ра-а! — слышится голос.
Схватив тяжёлый пулемёт, еле выбираюсь из окопа. Бежать тяжело. Ещё труднее стрелять на ходу…
Рукопашный бой. Он развернулся сходу. Когда на поле боя стали рваться снаряды, из-за пригорка появились танки со свастикой. Чья-то сильная рука схватила и толкнула меня в окоп…
Я увидел как Вася не спеша сменил диск в автомате. Будто делал он это не при свисте пуль, а где-то на плацу, в учебном полку. Стрелял зло, короткими очередями. Когда опять закончились патроны, схватил гранату и, низко пригнувшись, бросил в цепь фашистов. В грохоте боя взрыва даже не было слышно. Я видел за минуту до этого, как довольный Вася зло улыбался. Видел, как вдруг у кромки окопа взметнулось яркое пламя. Видел упавшего как-то сразу и неловко Васю. Падая, он подмял под себя растущие белые ромашки, и одна из них выпрямилась. На ней была кровь. Его кровь. Васи не стало. Его распахнутые глаза смотрели куда-то вдаль. Неприятельские траншеи мы взяли только к вечеру.
Схватка была жестокой. Я так и не знаю, где похоронили Васю…
Вечером — новый бой. Последнее, что я запомнил, — белые ромашки и несколько горящих немецких танков. Я лежал рядом с Алексеевым. Стрелял из пулемёта. И вдруг свет погас… Я куда-то провалился…
Нас осталось семеро из тридцати. И замкомвзвода Вася Алексеев, и Вася Семашко, и Гриша Петров, Володя Иванов, Костя Чернов… Они, знаешь, не погибли. Они и сейчас живут в моём сердце. Им не было ещё и 18…
Отвалявшись в полевом госпитале недалеко от линии фронта, я уже стал соображать, понимать, что со мной случилась беда. Взорвалась мина (по-видимому, где-то сзади). Осколком пробило каску, затылочную часть головы, шею. И так на какое-то время я выбыл из строя. Но врач сказал: «Ничего, сынок, ещё злее будешь. Немцев ещё много. Надо их бить».
Тогда, в 43-м, врачи выходили меня. При выписке из госпиталя сказали: «Теперь ты знаешь цену жизни, солдат. Бей врага крепче!..» И я воевал, воевал долгие месяцы, до самой Победы. Но тот первый бой под Курском — он никогда не забудется.
… Уходя тогда от Николая Устиновича, я думал: пока жив солдат, бой для него продолжается — тот первый, среди белых ромашек, и такой кровавый…
Валерий ПОЛЕЖАЕВ